ДЖАЛАЛИДДИН РУМИ (МОУЛАНА) персоязычный поэт-мистик
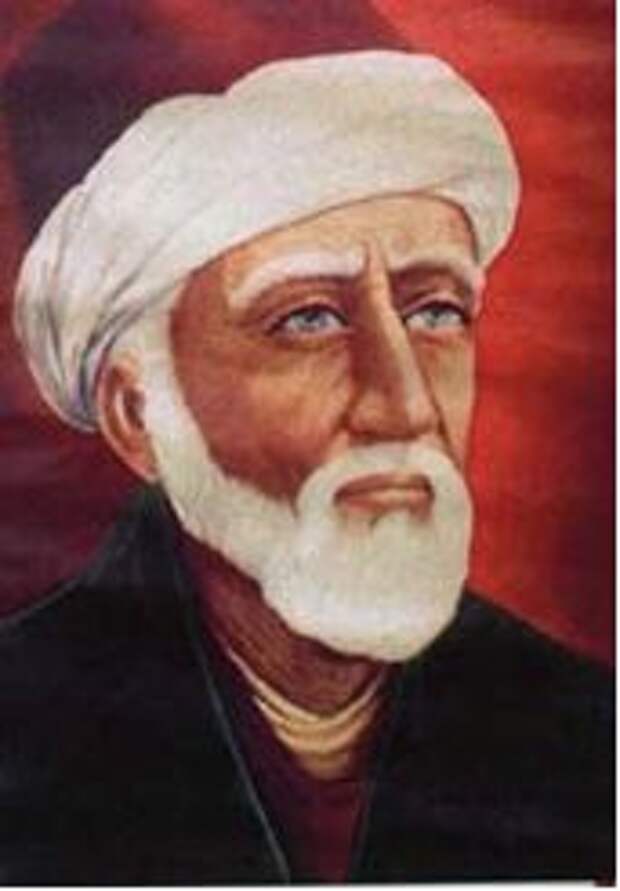
ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАВШИЙ СЕБЯ И ЗАБЫВШИЙ О СЕБЕ
После смерти моей ищите меня не в земле,
а в сердцах просвещенных людей…
Вначале жил я, прочим подражая,
Себя не видя, не осознавая,
Я недостойно замкнут был в себе, –
Но, отступив на шаг, познал себя я.
Научить никого ничему нельзя.
Можно только указать путь.
Пройти его каждый должен сам…
Познать мир своей души и овладеть им, пожалуй, потруднее, чем овладеть миром земным. Но самое трудное ждет потом: все знать и понимать, и, глядя на безумство мира, не быть в силах что-либо изменить. Вот тягчайшее из испытаний!
Джалалиддин Руми, величайший персидский поэт-мистик, полжизни был ученым богословом и отнюдь не собирался посвящать себя поэзии. Но духовный перелом, произошедший под влиянием встречи и возникшей дружбы с одним бродячим суфием, открыл Руми новый взгляд на мир. Это откровение он стал выражать во вдохновенных стихах, которые вдруг начал сочинять, а затем и в огромной «Поэме о скрытом смысле». Руми писал языком притч, аллегорических сравнений, доступных для понимания людей всех сословий и религий, и таким образом доносил до читателя свои идеи.
Джалалиддин Руми родился в Балхе (в настоящем – территория Афганистана), умер в Конье (Турция), его родным языком был фарси, на нем он общался, на нем же и писал, и потому по праву считается персидским поэтом.
Ныне Балх лишь небольшое, едва заметное местечко на севере Афганистана, а в те далекие времена Балх был крупным, процветающим городом, находящимся на перекрестке караванных путей из Китая и Индии в Персию.
Род Джалалиддина Руми, как гласит история, происходил от первого халифа Абу Бакра (род. 632–634), одного из близких сподвижников самого пророка Мухаммада. Отец Руми, Мухаммад ибн Хусейн ал-Хатиби ал-Балхи (1148–1231), более известный как Бахауддин Велед, принадлежал к весьма почитаемому в тогдашнем обществе избранному кругу знатоков мусульманского богословия, Корана и преданий о проро-ке Мухаммаде. Он был хорошим оратором и снискал себе славу проповедника. Вместе с тем Бахауддин не скрывал своего увлечения суфизмом .
(Суфизм, как аскетическое движение, зародившееся в исламе, питалось глубочайшим недовольством городских низов сложившимся образом жизни, гнетом феодально-корпоративного строя, полностью отчуждавшего личность в пользу духовенства, сословий и государства. Это недовольство обострялось противоречием между повелениями религии, объявившей всех мусульман братьями, и насилием властителей, освященным от имени той же религии служимым духовенством. Не видя вокруг силы, способной изменить действительность по законам справедливости, мусульманские подвижники надевали власяницы из грубой шерстяной материи – по-арабски «суф», уходили в пустыни, уединялись в кельях, углублялись в размышления о природе человека и бога. Отшельники-суфии, как их стали называть по власянице, из коранического понятия о хараме (запретном) и халале (дозволенном), разработали свое этическое учение. Всякое материальное благо, исходящее от властителя, считалось запретным, ибо было добыто насилием. Самые суровые аскеты считали запретным и подаяние, так как в нем могли быть заключены частицы чужого труда. Иное дело колючки в пустыне и вода из источника. Они никому не принадлежали и представляли ценность лишь после того, как были собраны или принесены. Тут не было присвоения чужого насилием и неправдой. Исходя из хадиса «Кто познает себя, тот познает бога», суфии разработали тончайшую систему организации внутренней жизни, необходимую для достижения «благости», обожествили любовь как единственный способ познания Истины и создали сложную философскую систему для обоснования своей практики. Суфии обличали лицемерие духовенства, выступали против подчинения духовной жизни личности скрупулезным правилам казенной обрядности и провозгласили отношения с богом частным делом каждого человека. Наконец, они породили воспевающую любовь – поэзию, которая на протяжении веков оказывала и оказывает огромное влияние на развитие мировой литературы.)
Обширные теологические познания, ученость и мудрость создали ему репутацию религиозного наставника и учителя, публичные выступления которого собирали многочисленную аудиторию и содействовали росту его авторитета, недаром его наградили титулом Султан Улемов (Глава Ученых). Бахауддин преподавал в медресе (высшей духовной школе мусульман), и его проповеди в окрестностях Балха пользовались огромной популярностью. Впоследствии он объединил свои идеи в книге «Познания», включавшей как традиционные толкования Корана, так и идеи суфизма о единобытие. Все это оказало немалое влияние на становление взглядов его подрастающего сына. Вскоре ряд житейских и исторических факторов побудил Бахауддина под благовидным предлогом паломничества навсегда расстаться с родными местами. И он вместе с семьей в сопровождении сорока учеников и последователей выехал из Балха, присоединившись к каравану, направлявшемуся в Нишапур.
Тот самый Нишапур, столица Хорасана, с которым связано столько легенд, преданий и великих имен. Из ремесленников Нишапура вышел похороненный здесь же создатель совершеннейшего солнечного календаря, астроном и математик Омар, по прозвищу Хайям, что означает «Швец палаток». Это он сложил известные сейчас всему миру удивительные четверостишия – рубаи, кои в годы страшного гнета того времени славили свободу духа. В этом же городе жил Султан Постигших Истину, подвижник и поэт Фаридаддин по прозвищу Аттар, или «Аптекарь». Именно он, знаток человеческих душ, умевший читать по лицам, как по раскрытым книгам, предрек будущее 12-летнему сыну балхского проповедника: «Пройдет немного времени, и в его сердце вспыхнет сердце мира, искры которого зажгут пламя в душе, жаждущей Истины». С подаренной Аттаром «Книгой тайн» Руми не расставался всю свою жизнь, обращаясь к ней в минуты радости и скорби и находя в ней ответы на терзавшие его сомнения. Рассказывают также, что в Дамаске, прославленный мыслитель Ибн ал-Араби, увидев, как Руми идет за своим отцом, воскликнул: «Вот океан, шествующий за озером».
Великому мудрецу Аттару невозможно было не заметить юное дарование – знания так и струились из уст и глаз юноши. Еще в Балхе тот выучил наизусть Коран, множество хадисов, тома толкований и комментариев к ним, знал историю персидских царей, дела и слова великих подвижников и столпов суфизма, разбирался во всех тонкостях символики, посредством которой теоретики и поэты суфизма выражали свои отнюдь не правоверные воззрения. Затем в прославленных медресе Дамаска и Халеба он слушал поучения и беседы крупнейших ученых и шейхов, изучил астрологию и алхимию, алгебру, геометрию и основы врачевания. Владел, наряду с фарси, арабским и греческим языками. А отец посвятил его в искусство составления фетв и чтения проповедей.
Cпустя еще 12 лет, Джалалиддин обладал всем, что необходимо проповеднику: образованностью, памятью, развитым воображением и красноречием. Он помнил наизусть невесть сколько народных притч, рассказов и лирических песен, коими уснащал свою речь в нужный момент. Свободно, по памяти, приводил стихи великих суфийских поэтов – Рабийи, Санайи, Аттара. Да и сам умел к случаю слагать свои собственные стихи в их духе. Словом, в 24 года Джалалиддин владел всеми знаниями, которыми обладали лучшие умы его времени, располагал всеми сведениями, которыми располагали крупнейшие богословы, законоведы и суфийские проповедники, и, несмотря на молодость, слыл большим ученым.
Однако все эти знания были лишь образованием, пусть даже самого высокого уровня. Джалалиддину хотелось большего: приблизиться к пониманию мудрости этого мира, видению сокровенного.

Во истину, когда готов Ученик, приходит и Учитель! В один из дней, когда Джалалиддин предавался раздумьям, сидя у горного ручья, пришел к нему дервиш, принесший свернутое в трубку письмо. Его автором был Сеид Бурханаддин, прозванный в народе «Тайновидец», в прошлом ученик отца Джалалиддина, а ныне сам духовный наставник и воспитатель. Не медля ни мгновения, юноша пошел вслед за дервишем, одолеваемый лишь одним единственным вопросом: как тот угадал, как узнал тайную нужду его, о которой сам Джалалиддин лишь смутно догадывался?
…Сеид вышел ему навстречу. Они обнялись и долго стояли, припав друг к другу, – молодой красивый ученый и старый оборванный подвижник. Сеид тут же начал: не с ответов, с вопросов. По шариату и толкованию хадисов, по астрологии и медицине – в ней мало кто смыслил больше Сеида, ибо учился он врачеванию тела у одного из учеников ученика самого Абу Али ибн Сины. То был самый строгий экзамен, который когда-либо доводилось держать Джалалиддину. И с каждым ответом юноши светлело суровое лицо подвижника. Наконец, тот вскочил и порывисто склонился перед молодым ученым: «В науке веры и знании явного ты превзошел отца своего. Но отец твой владел и наукой постижения сокровенного. Я удостоился этой науки от отца твоего, моего шейха, и теперь желаю повести тебя по пути, дабы и в знании сокровенного стал ты наследником, равным родителю своему». Джалалиддин с радостью преклонил колена, тем самым принимая покаяние, что означало: отныне он целиком отдается в руки наставника, чтобы тот повел его по пути самосовершенствования. Так начался его путь к себе.
Однако, что подразумевали суфии под знанием сокровенным, и по какому пути повел молодого Джалалиддина его воспитатель Сеид-Тайновидец?
О ТРЕХ СТУПЕНЯХ ПОЗНАНИЯ НА ПУТИ СУФИЯ
Суфийская традиция разделяла путь самосовершенствования и самопознания на три основных этапа.
Первый этап – шариат , или буквальное выполнение закона, запечатленного в Коране и преданиях о пророке Мухаммаде. Он не является еще вступлением на путь, ибо обязателен для каждого правоверного мусульманина. Но обязателен он и для суфия: только освоив положения и догматы ислама, можно идти дальше, то есть вступить во второй этап – тарикат, что и означает собственно путь. Шариат же, как подготовительная ступень, соответствовал логическому познанию, которое именовалось наукой явной. Не отрицая значения логического познания, суфии утверждали, что оно ограничено, ибо ему доступны лишь признаки, свойства, качества, но не сама суть, или «то, что через Истину, но не сама Истина». Логическое познание происходит путем анализа и синтеза. Сущность же божественной Истины абсолютна и не допускает ни анализа, ни синтеза, логическим путем понять ее невозможно.
Суфии считали, что за восприятием рассудка есть другая форма восприятия, называемая откровением. Только откровением постигается скрытое. И добытое этим путем знание называлось знанием сокровенным. То, что постигается откровением, логике недоступно.
Трудами ученых, в частности, известного ираниста Е. Э. Бертельса, было показано, что суфийские шейхи, по сути, занимались экспериментальной психологией. В результате строжайшего самоограничения и целеустремленности, путем самонаблюдения они выработали в себе такие качества, как несокрушимая воля, бесстрашие, позволявшие с улыбкой встречать смерть, умение читать мысли, вызывать гипнотические состояния и у себя, и у других, которые в те времена должны были неизбежно восприниматься как нечто сверхъестественное, и тем самым укрепляли чудотворную славу суфийских шейхов. Но то, что суфиям представлялось отчужденным, как бы надсознательным, есть не что иное, как область подсознания. Тарикат, таким образом, позволял суфию овладеть методикой психоанализа и управлять подсознательным в себе и других. По этому пути и повел молодого Джалалиддина его наставник.
Образ пути, дороги к Истине, породил образ так называемых «стоянок», каждая из которых есть устойчивое психическое состояние, свойственное путнику на данном этапе пути. Первой стоянкой в начале пути считалось покаяние («тауба»), полностью менявшее психологическую ориентацию обращенного, который отныне устремлял все свои помыслы только к Истине, Абсолюту. Это и есть то самое покаяние, которое принял 25-летний Джалалиддин, опустившись на колени перед своим воспитателем в день их первого свидания в Конье. Вторая стоянка – осмотрительность («вара»), выражающаяся в строжайшем различении между дозволенным и запретным. Эта осмотрительность касалась, прежде всего, пищи. Из осмотрительности вытекал переход к третьей стоянке – воздержанности («зухд»). Начиная воздерживаться от запретного, путник все последовательнее проводил этот принцип, воздерживаясь от излишка, от всего, что удаляет его помыслы от Истины, от всего преходящего, невечного, расширяя воздержание до отказа от всякого желания. Воздержание приводило путника на четвертую стоянку – нищеты («факр»). Нищета, как отказ от земных благ, следовала из последовательно проводимого воздержания. Но в дальнейшем под нищетой понималась не столько материальная бедность, сколько сознание, что все без исключения, вплоть до психических состояний, не является достоянием личности путника. Поскольку нищета и воздержание связаны с неприятными переживаниями, за ними с необходимостью следует пятая стоянка, называющаяся терпением («сабр»). Здесь суфий учился покорно принимать все, что трудно перенести. Как выразился один из столпов суфизма, «терпение есть проглатывание горечи без выражения неудовольствия». Со стоянки терпения путник двигался к шестой стоянке – упования («таваккул»). Здесь представление о жизни связывается с единым днем, даже мигом и отбрасывается всякая забота о завтрашнем дне. Вот почему суфии часто называют себя «людьми времени», то есть людьми, живущими нынешним мигом. То, что минуло, уже не существует, то, что грядет, еще не существует. Здесь явственно намечается связь с представле-нием о том, что мир творится и уничтожается каждый миг. Последние две стоянки вели путника к седьмой стоянке, называемой приятием, или покорностью («риза»), то есть «спокойствием сердца в отношении предопределения». Это такое состояние психики, когда любой удар или любая удача не только переносятся спокойно, но даже и представить себе нельзя, чтобы они вызвали огорчение или радость. Личная судьба, да и вся окружающая действительность перестают иметь для него какое-либо значение.
Здесь, по мнению теоретиков суфизма, заканчивается путь и начинается последняя стадия совершенствования, именуемая «хакикат», то есть реальное, подлинное бытие. Достигнув ее, суфий именуется «ариф» (познавший) и постигает, разумеется, интуитивно самую сущность Истины. Отсюда еще одно название суфиев – «люди истинного бытия», способные к интуитивному познанию Истины. Таким образом, традиционная суфийская доктрина, как доктрина идеалистическая, считала возможным, пусть интуитивное, но познание абсолютной Истины. Практически же, достигнув ступени «хакикат», суфии всего-навсего приводили свою психику в такое состояние, при котором их сознание как бы растворялось в объекте созерцания.
Таким образом, три ступени – шариат, тарикат и хакикат – соответствовали у суфиев трем ступеням познания. Первая – «уверенное знание». Оно объяснялось таким сравнением: «Мне не раз доказывали, я твердо знаю, что яд отравляет, огонь жжет, хотя я и не испытал этого на опыте». Эта ступень обычного логического познания. Вторая ступень – «полная уверенность». То есть: «Я сам, своими глазами видел, что яд отравляет, а огонь сжигает». Это опытное знание. И, наконец, последняя ступень – «истинная уверенность». Или: «Я сам, приняв яд, испытал его отравляющее действие, я сам горел в огне и так убедился в способности яда отравлять, а огня жечь». На этой ступени, соответствующей этапу хакикат, по мнению суфиев, происходит полное слияние субъекта с объектом, наблюдающего с наблюдаемым, а также растворение первого в последнем.
Все три ступени лаконично передавались триадой: «знать, видеть, быть». Совершенный человек, по мнению суфиев, овладев знаниями, должен был привести в соответствие с ними свой нравственный и житейский опыт, ведь знание, отделенное от личной нравственности познавшего, не только бесполезно, но и губительно, поскольку ведет к тому самому лицемерию, в котором погрязло казенное богословие. Так суфии устанавливали зависимость между наукой и этикой, рассудком и чувством.
Прохождение тариката, или пути, требовало огромных специальных знаний. Тот, кто самостоятельно на свой страх и риск пытался проникнуть в тайны подсознания или, как говорили суфии, овладеть знанием сокровенного, рисковал поплатиться здоровьем, разумом и самой жизнью. Поэтому считалось: «Кто не имеет шейха, у того наставник – дьявол». Всякий, кто желал следовать по суфийскому пути самосовершенствования, должен был избрать себе духовного наставника и под его руководством пройти тарикат.
Подобно современным психоаналитикам, опирающимся в исследовании подсознательного на сферу сексуальности, как одну из основ эмоциональной жизни, суфийские шейхи полагали, что в отличие от шариата, где человека ведет рассудок, во время прохождения тариката его поводырем является любовь. Если помнить, что Истину они символически именовали «Возлюбленным», а себя – «Влюбленными», то можно сказать, что они в совершенстве использовали такое психофизиологическое явление, как сублимация, возможность переключения чувственности в область духовности.
Суфии полагали чувственно-интуитивное познание высшей формой познания вообще. И потому каждый суфийский шейх считал необходимым развить в учениках способности к метафорическому (образному) мышлению, которое, будучи областью искусства, привело к тому, что суфийские идеи нашли свое высшее и наиболее полное выражение в поэзии. Поэтическая речь для видных шейхов была так же естественна, как естественно для философа изложение мыслей в абстрактно-логических категориях.

Джалалиддин Руми в одежде суфия
Конечно, не каждый, кто вступал на путь, мог пройти его до конца. Суфии говорили: «Благодать дается поровну каждому, но каждый воспринимает ее в меру своих способностей». В результате одного и того же пути (тариката) вырабатывались различные характеры. На протяжении истории суфизма мы видим шейхов яростных и умиротворенных, суровых и благостных, неистовых и рассудительных, ораторов, проповедников, воителей. Здесь, конечно, сказывались время, среда, а также психофизические свойства и направленность как самого суфия, так и его наставника.
Наставник Джалалиддина Сеид Бурханаддин был суров и неистов. Еще в Балхе, слушая поучения Султана Улемов, он приходил порой в такое возбуждение, что прерывал речь шейха возгласами, а также, сам того не замечая, совал ноги в тлевшие под мангалом угли, пока выведенный из терпения Учитель не приказывал мюридам: «Выбросьте Сеида отсюда за шиворот, дабы не мешал он нашему собранию!» Но в отличие от Султана Улемов Сеид был не столь категоричен. Например, подобно казенным богословам, Султан Улемов считал употребление вина делом запретным для кого бы то ни было: «Вино превращает человека в похотливого пса, в грязную свинью». На что Сеид как-то заметил: «Тем, кого превращает, запретно, а тем, кого не превращает, дозволено». В противоположность своему шейху Сеид стал не проповедником, а подвижником, и часто настолько погружался в самосозерцание, что забывал обо всем на свете.
Как истинный наставник, Сеид не жалел своего самого одаренного ученика, не давал ему никаких поблажек, и потому на пути «тариката» тому пришлось испытать многое.
Зная, что Джалалиддин унаследовал от отца неуемную гордыню, шейх решил, прежде всего, расправиться с нею. И первым делом сын Султана Улемов отправился чистить нужники, изо дня в день таская кожаные ведра с нечистотами. Когда работы было мало, Сеид задавал дополнительный урок: собирать в городе подаяние для всей братии. Это было похуже нужников, ведь одно дело – исполнять урок перед своими, другое – унижаться перед чужими, тем более перед своими бывшими прихожанами. А между тем мало кто узнавал в худом безбородом дервише настоятеля медресе и проповедника соборной мечети. За время испытаний Джалалиддин побывал в таких кварталах города, о существовании которых едва догадывался прежде, и за несколько месяцев узнал жизнь города лучше, чем за все проведенные в нем годы.
И вот однажды шейх сказал: «Ты исполнил урок. Но помни: душу очистить трудней, чем отхожие ямы».
Джалалиддина постоянно мучил голод. Он осунулся, похудел. Как многие аскеты-подвижники, его наставник считал голод ключом к кладезю мудрости. Нет на земле народа, у которого бы не было постов. Но для того, кто хочет познать себя, постом должен быть каждый день. По мнению Сеида-Тайновидца, «подобно лопате, открывающей скрытые в земле воды, голод заставляет бить ключом источники понимания и чутья». И говорил: «Голод – конь, верней всего доставляющий путника к цели. Но объезжать его надо понемногу, умеючи». Вскоре и этот урок был пройден – голод стал настолько привычным, что Джалалиддин научился и с ним справляться, подвязывая по совету шейха камень к животу.
Следующий урок – беспрерывное, многократное чтение сур Корана, пока само звучание, мелодия стиха не станут вызывать образы и видения. Затем – полное многодневное сосредоточение на одной мысли, одном представлении, что, по мнению шейхов, приводит к погружению в океан Абсолюта. Все непонятнее становились речи наставника, над разгадкой которых приходилось размышлять денно и нощно. Сеид перестраивал мышление своего ученика на метафорический лад, заставлял «перевоплощаться» в растения и животных, в отвлеченные страсти и желания. И Джалалиддин, фантазия которого не знала предела, преуспевал в этом неизмеримо лучше и быстрее других. А наставник с тайным удовлетворением наблюдал, как быстро идет его ученик от стоянки к стоянке, удивляясь его способности самые непередаваемые свои ощущения и состояния изображать в картинах мира.
И вот путь, по которому он вел Джалалиддина, близился к концу. Тысяча и один день – ровно столько по традиции длится искус суфия. Любопытное число: 1001=360+360+281. Два полных зодиакальных круга и еще 281 градус, то есть 11 градус Козерога, королевский, градус победы, достижений и успеха. Выдержавший испытания и дошедший до конца будет увенчан победой над самим собой!
Сеид призвал Джалалиддина к себе, сообщив, что тот должен пройти последний искус путника – искус уединения. Но недаром прошли эти два с лишним года: Джалалиддин знал – конца пути нет. Устремившись на поиски духовных истин, не знаешь, когда обретешь их, и обретешь ли вообще, но возвратиться в прежнее состояние тебе уже не дано никогда. И в знак согласия и покорности только молча склонил голову.
Сеид приказал подготовить келью, принести туда коврик, кувшины с водой и ячменного хлеба. На следующее утро сам ввел в нее Джалалиддина, благословил и оставил одного, замазав дверь глиной. Сорок дней продолжался искус уединения. Дважды заходил за это время к нему наставник. Менял пустые кувшины на полные и удалялся так же тихо, как входил, стараясь не глядеть на Джалалиддина. Но тот его и не замечал. В первый раз он сидел в углу размышления, оцепенев, или, как говорили суфии, втянув голову в воротник изумления. И шейху невольно пришел на ум стих из Корана: «Назидание в вас самих. Но вы этого не ведаете». Во второй раз он застал Джалалиддина в слезах: тот стоял лицом к стене, рыдания душили его. Шейх не стал его тревожить. Наконец, подошел срок. Последнюю ночь шейх провел без сна – так волновался за своего мюрида. На рассвете приказал взломать дверь и первым вошел в келью. Сквозь тусклое оконце под куполом падал слабый свет. Джалалиддин стоял посредине, на губах его играла едва заметная печальная улыбка.
«В мире нет ничего, что было бы вне. Все, чего ты взыскуешь, найдешь ты в себе», – эти слова Джалалиддина, первые за сорок дней, привели наставника в неописуемое волнение. Руки его заметались, как крылья ветряной мельницы, сдавленный вопль вырвался из его груди, и он заключил Джалалиддина в объятия. Ведь тот ответил на стих Корана, мелькнувший в голове шейха, когда он в первый раз вошел к нему в келью. Мюрид, увидевший мысли шейха, переставал быть мюридом. Он становился познавшим, «арифом».
«Ты познал все науки – явные и сокровенные, – произнес Сеид, когда снова обрел дар связной речи. – Да славится Господь на том и этом свете за то, что удостоился такой ничтожный и слабый раб его, как я, милости лицезреть своими очами твое совершенство. С именем его ступай и неси людям новую жизнь, окуни их души в благодать».
В тот же день шейх повязал Джалалиддину чалму улема (ученого), выпустив конец на правое плечо, и облачил его в плащ с широкими рукавами, который носят арифы. А затем объявил мюридам, что слагает с себя обязанности их наставника, которые отныне будет исполнять Джалалиддин, достойный своего отца, сын Султана Улемов.
Джалалиддин снова стал настоятелем медресе и наставни-ком обители дервишей. Снова вел беседы с мюридами, читал проповеди, наставлял учеников, участвовал в диспутах с богословами, устраивал меджлисы, на которые был открыт доступ всем горожанам. Люди сделались для него куда яснее, чем прежде. Он читал их, как раньше читал открытую книгу: ведь он испытал почти все из того, что могут испытать они, и в воображении своем прошел весь путь, который проделал человек прежде, чем стать человеком. Речь его стала скупей и убежденней и, главное, брала за сердце. Слово всегда било в цель. Все многолюдней становились его меджлисы, прибавилось в обители и мюридов.
За три года тариката Сеид Бурханаддин посвятил Джалалиддина в сокровенные тайны мистического пути, раскрыл перед ним сущность концепций суфизма, основанных на идее постижения скрытого от непосвященных знания через собственный психологический опыт.
Однако сразу же заметим, суфизм суфизму рознь. В его многовековой истории наблюдались самые разные течения и группы – от по-своему принимающих сложившееся богословие, до весьма строго придерживающихся буквы его закона.
Почерпнув многое из предшествующей исламу религии зороастризма, суфии признавали единство Вселенной, считая, что все происходящие в природе и обществе процессы подчиняются общим законам. Потому и занимались познанием самих себя, как микрокосмоса, полагая, что одновременно познают и весь мир, то есть макрокосмос. Вот почему на извечный вопрос, где находится мир Абсолюта, Джалалиддин отвечал: «В вашем сердце».
Единственным средством познания Истины Руми считал любовь. Например, любовь ювелира к своему ремеслу, говорил Джалалиддин, ведет его к познанию истинных качеств металла, скрывающихся в нем тайн, а, следовательно, и к овладению приемами и способами его обработки. Причем процесс овладения тайной металла есть для мастера одновременно и процесс познания самого себя. Совершенное же мастерство – растворение мастера в материале, отождествление себя с ним – подобно познанию абсолютной Истины и предполагает полное слияние субъекта с объектом в единое целое. Но, поскольку в этом мире такое слияние не достижимо, то единая и абсолютная Истина познается лишь относительно, в то время как полное отождествление мыслится лишь в мире ином, мире Абсолюта. Стремление к постижению Абсолюта и невозможность такого постижения составляют суть поэтической диалектики Джалалиддина Руми, и в этом ее отличие от традиционного суфизма, считавшего возможным постижение абсолютной Истины.
Стремясь к Абсолюту, Джалалиддин считал высшей любовью любовь к Истине. При этом, подобно суфийским аскетам, никогда «не оскоплял» человека презрением к любви плотской, земной, или, как он сам выражался, «любви преходящей». Он сравнивал любовь со светом Солнца. Всякая любовь – к ремеслу, к земле, к родине – была для него ступенью к любви истинной, а, следовательно, благом. Но себялюбие, обрекающее человека на вечное заточение в темнице собственной шкуры, уподоблял ослеплению.
Заметим также, что ни Руми, ни его ученики никогда не называли себя суфиями, но всегда – «ашиками» (влюбленными), ибо не логика, а любовь была их поводырем на пути познания. Любовь для Руми – движитель всего сущего. По его мнению, любить умеет и зерно, и растение, и животное, но только кожей своей, своим телом. И лишь человек умеет любить одновременно и телом, и разумом, и воображением, и памятью.
На психологии любви с ее стремлением к слиянию, растворению друг в друге, но с недостижимостью тождества, и было построено миропонимание Руми, которым двигала неутомимая жажда гармонии с миром.
В 17 лет, по его мнению, любовь к прекрасной Гаухер исцелила его от душевной немоты, научила первым словам на языке сердца. И потому в своих стихах он славил любовь к женщине, ибо именно в любви к себе подобному человек может познать, как собственную сущность, так и человеческую сущность вообще. И пляска, в которой порой кружился седобородый старец, оглашая мир восторженными стихами о слиянии с «Любимой», была не блаженным слушанием суфиев, а самозабвенным единением в Любви со всем миром.
Как видим, суфизм Руми и его наставника Сеида Бурханаддина был совершенно иным, нежели «казенный», или традиционный, как принято говорить. Джалалиддин никогда не был абсолютным аскетом, считающим благом исключительно все духовное, однажды и навсегда отрекшимся от мира материального. Этот мир был для него также божественен и дорог, как мир тот. Он был нормальным человеком, жил среди людей, много работал, состоял в браке, имел детей, наслаждаясь всеми прелестями земного мира и помогая в этом другим. При этом он никогда не забывал о мире духовном, точнее, не разделял эти два мира, а объединял их, как взаимодополняющие, которые в его понимании оба были божественными.
Руми очень много предавался думам о Боге, философским размышлениям на самые разные темы, поискам ответов на самые разные вопросы, принимал участие в многочисленных собраниях и диспутах богословов.
В то же время, в отличие от подавляющего числа этих богословов, он любил музыку, танец, занимался пением и стихосложением. Джалалиддин ввел обычай во время меджлисов слушать игру на флейте («нае») и лютне («ребабе»), петь стихи собственного сочинения, плясать под музыку. Руми считал, что земная музыка есть отражение музыки небесных сфер, выражающей изначальный трепет творения, а священный танец дервишей, носящий характер настоящего богослужения, олицетворяет головокружительный хоровод планет, наполняющий Космос торжествующей радостью. Но, что самое главное и «возмутительное» для того времени и тех условий, – Руми боготворил женщину, относился к ней с любовью и уважением, никоим образом не умаляя ее достоинства, не принижая ее роль в жизни общества, и потому позволял женщинам участвовать в меджлисах .
Среди последователей Руми вопреки всем мусульманским традициям были женщины. Это и понятно, ведь проповедь любви, культ человеческого сердца не могли не найти отклика среди женщин. Однако позднейшие хронисты в благочестивом усердии не осмелились назвать их имена, но прозвища некоторых из них до нас дошли. Это арфистка и певица, разбогатевшая от даров своих поклонников и прозванная за красоту Тавус («Павлин»), которая отпустила на волю своих служанок-рабынь и стали последовательницей поэта. Это присутствовавшая как равная среди равных на собраниях друзей Джалалиддина Фахрунниса («Гордость женщин»). Одна из учениц поэта стала даже настоятельницей дервишекой обители в городе Токате. А жена вельможи Аминаддина Микаэла собирала по вечерам женщин, которые, к ужасу правоверных улемов, плясали, пели, слушали стихи поэта, осыпали его розами и обрызгивали розовой водой. Среди этих женщин была и царевна Гумедж-хатун, дочь султана Гияседдина и грузинской царицы Тамары, ставшая впоследствии женой великого визиря Перване и прозванная Гюрджю («Грузинка»).
О женщине Руми говорил так:
«Женщина не только любимая. Не только создание, но и творец. Много ли людей в состоянии понять творца? Много ли мужчин понимает женщину? Привыкших к темноте свет Солнца ослепляет. Не оттого ли факихи , зарывшись, как черви, в свои книги, велят закрывать лицо женщинам, запирать их в гаремах, не внимать их речам и даже имени их не высекать на камне надгробном, что им, привыкшим к тьме ученого невежества, непереносим ослепительный свет женского сердца? Ссылаются при этом на стих Корана: «Мужья стоят над женами». Но повторять чужие слова – не значит понимать их смысл. Во времена пророка Мухаммада женщины не закрывали лица, и сколько их прославилось делом и словом! Мужами не родятся, ими становятся. В мужестве и зрелости множество женщин выше мужчин».
Взгляды Руми никак не укладывались в мозгу «традиционных» богословов, кадиев и факифов, которые все это слышали и лицезрели, но которые никогда не осмеливались открыто противостоять самому Моулана(Моулана (букв.) – «Наш господин», титул высоких духовных особ, который впоследствии, благодаря тому, что так его именовали люди, стал псевдонимом поэта. Поэтому ныне, когда говорят «Моулана», имеют в виду Джалалиддина Руми. ).
В это же самое время Руми была основана (впоследствии возглавленная его сыном Веледом) новая суфийская группа «Моулавийа», известная в Европе как секта «вертящихся дервишей», последователи которой называли себя «моулави». Послушники, вступавшие в этот орден, подобно в свое время Руми, первым делом изолировались от общества, проводя в монастыре 1001 день: первый год они посвящали служению ближнему, второй – служению Богу, а третий – заботе о собственной душе. Посвящение давало им право участвовать под руководством шейха в церемонии космического танца, который во время коллективных радений этого суфийского братства играл значительную роль.

танец суфиев
Дервиши, одетые в белые одежды (символ погребального савана), в высоком головном уборе из войлока (на символ могильного камня), закутанные в длинные черные плащи (олицетворение могилы), которые сбрасывались в начале танца в знак освобождения от плотской оболочки для нового рождения, кружились вокруг танцующего в центре шейха, как планеты кружатся вокруг Солнца. Так, по их мнению, под звуки флейты и барабана осуществлялся их высший союз с Богом.
Поэтический дар и личная популярность Руми привлекали к учению суфиев многочисленных поклонников, а Конью, столицу Рума (отсюда еще один псевдоним поэта – Руми), как мусульмане называли тогда Малую Азию, где жил и работал «Наш господин», превращали в Мекку суфизма. Здесь великого Моулана, отринувшего все условности традиционных богословов и открывшегося в истинной любви к Богу, нередко можно было видеть на улице кружащимся под звуки ребаба и бубна.
Вот как происходил этот танец: «Стихи Джалалиддин обычно произносил вслух. Ритм, звучавший в них, обладал неодолимой силой. Он подчинялся ей, но не вдруг. Сначала прислушивался, склонив голову к правому плечу, затем неспешно, как будто сопротивляясь, поднимался на ноги. Подобрав полу халата, делал первый шаг и, откинув левую руку с бессильно повисшей кистью, медленно поворачивался на месте. Перед его духовным взором возникала гармония Вселенной с ее вечным кружением: планет вокруг Солнца, семи сфер Неба вокруг Земли. И гармония эта завладевала всем его существом. Тогда он вскидывал правую руку и начинал кружиться в пляске. Сперва не торопясь, затем все быстрее и быстрее, покуда не забывался в радостном слиянии с ритмом, разлитым в мироздании, ритмом, чьей бледной тенью были музыка стиха и пение ребаба.

Дервиш, играющий на ребабе
Ребаб ликовал: свершилось таинство, «Влюбленные»
(В метафорическом (образном) понимании суфиев Бог ассоциировался с понятием «Любимая», «Возлюбленная», а сам суфий был «Любящим», «Влюбленным».) соединились. Но в ликовании звучала и тоска о невозможном – о полном растворении друг в друге, тайном слиянии в Любви, когда не существует более отдельных друг от друга «Я» и «Ты». И эта тоска о неосуществимом, стремление к снятию извечной противоположности «Влюбленного» и «Возлюбленной», составляющих единое, звучали с каждым мелодическим повтором все исступленней и трагичней. И все быстрей и самозабвенней кружился в пляске седобородый старец, едва не задувая свечу ветром, что подымал полы его халата...»
На полпути жизни, в 37-летнем возрасте (вскоре после того, как Сеид Бурханаддин навсегда покинул этот мир), судьба преподнесла Джалалиддину новый бесценный подарок – еще одного Учителя. Человеком, буквально ворвавшимся в жизнь Руми, чьи идеи оказали решающее на него влияние, стал бродячий суфийский проповедник Шемседдин Тебризи. Именно этот странный взыскующий мистик возжег в душе Джалалиддина огонь мистической любви, абсолютной и всепоглощающей, выпустив на волю его великий поэтический дар .
(Шемседдин Тебризи (сокр. имя – Шемс, с фарси «шемс» – Солнце) – известный азербайджанский поэт и мыслитель, один из авторитетнейших суфиев своего времени. Биографических данных о Шемси Тебризи очень мало, а все, что известно, покрыто ореолом таинственности. Из его произведений и суфийской деятельности видно, что он получил очень хорошее богословское образование, некоторые биографы даже приписывают ему шахское происхождение. Говорят, он отличался необычайной физической красотой и духовной чистотой. Еще будучи молодым, получил имя «Мюршиди-камил» («Cовершеннейший мюршид»). Очень много путешествовал и имел немало последователей и учеников. Согласно книге Радия Фиша, биографа Руми, 26 ноября 1244 года в турецком городе Конье, остановившись в караван-сарае рисоторговцев, Шемс встретился со знаменитым впоследствии поэтом Джалалиддином Руми. Место их встречи современники образно назвали «Встречей двух Морей», или «Мардж аль-Бахрайн».
Как пишет Радий Фиш: «Был обычный осенний день. Не сошлись в битве в тот день великие армии, чтобы решить судьбу империй. Не взошел на престол основатель династии, которая повелевала миллионами. Не был открыт ни новый континент, ни новый вид энергии. Ничего, что поразило бы воображение и сразу заставило бы людей запомнить эту дату, не случилось в тот неимоверно далекий теперь день. Просто встретились два человека. Но чем дальше отступает во тьму веков тот день, тем необычней кажутся последствия этой встречи. Встреча двух людей, которые открыли себя друг в друге, – всегда чудо, может быть, самое удивительное из всех чудес… Два человека не только открыли себя друг в друге, они совершили великое открытие – человека для человечества… В этот день родился для мира один из величайших поэтов земли, Джалаладдин Руми, воплотивший в своей поэзии верования, чувства и предания народов огромного региона и выразивший в ней с небывалой силой величие человеческого духа в его бесконечном стремлении к совершенству».)
Три месяца без перерыва продолжалась беседа Джалалиддина Руми с Шемседдином Тебризи, после чего всем, кто знал Руми, показалось, что он умер, а в его облике родился другой человек.
Что же это был за мир, куда позвал его таинственный друг и наставник, каким знанием его наделил?
Шемседдин, подобно многим суфийским мыслителям, придерживался монического взгляда на мир, был убежден в его единстве. Но, познакомившись со всеми школами суфизма, не примкнул ни к одной из них, считая, что «шейхи и суфии – разбойники с большой дороги», превратившие в цель веру. В результате этого в руках ученых и богословов наука и вера стали «завесой, скрывающий Истину», в то время как ни наука, ни вера – не цель, а только средство.
А что же цель? «Все на свете есть жертва человеку, – говорил Шемседдин. – Только человек – жертва самому себе». Продолжая: «Господь изволил почитать не престол и не небеса… Нужно полюбить обладателя сердца, стать помощью ему… Человек, познавший себя, познал все». И еще: «Лица всех людей повернуты к Каабе. Но убери Каабу, и станет ясно: все они поклоняются сердцу друг друга. В сердце одного человека – поклонение сердцу другого. А в сердце другого – поклонение сердцу первого». Цель – человек. Но отнюдь не всякий. Тот, кто занят лишь собственными нуждами и интересами, кто не поднимается над каждодневной суетой по обеспечению самого себя жизненными благами, сам становится завесой к собственной сущности как человека.
Цель – совершенный человек. Но, кто он, этот совершен-ный человек? Человек, познавший себя и забывший о себе. И эти воззрения Шемседдин Тебризи передал Джалалиддину Руми, ловившего каждое слово из уст своего наставника.
Все сущее, считал Шемседдин, есть проявление божественного универсума. Совершенный человек – цель, венец творения. Отсюда вывод: познавший себя и в самозабвении слившийся с миром человек подобен Богу. Если совершенный человек богоравен, то священно всякое стремление человека к самосовершенствованию, к самоотдаче, самозабвению в труде, в любви, в обожествлении совершенного человека. Согласно Шемседдину Тебризи, люди не разделяются по богатству, знатности, положению и даже по религии. Для него все они – люди. Вот в каком смысле следует понимать слова о Руми, сказанные впоследствии о нем его сыном Веледом: «И стало для него все едино: что низкое, что высокое».
«Все ссылаются на своего шейха, – говорил Шемседдин. – Я же пью воду из самого источника». И упорно отвращал взор Джалалиддина «от созерцания Месяца, отраженного в тазу», указывая «на Месяц на небе». В Джалалиддине он обрел человека, разделявшего его взгляды, потому и раскрыл таившиеся в том неведомые дотоле ему самому силы.
Прежде Джалалиддин был постоянно погружен в чтение священных книг, богословских трактатов, суфийских стихов отнюдь не оптимистического содержания. Теперь же слезы и стенания сменились гимнами радости быть совершенным человеком, гордостью за него, верой в его величие и всемогущество. Шемседдин, сам не чуждый книжной образованности, увидел: его друг постиг всю ученую премудрость времени. Здравым смыслом простолюдина он понял: как и многим ученым мужам, книги заслонили Джалалиддину окно в мир, а живую жизнь духа облекли в саван мертвых догм.
Внутренние силы Джалалиддина, придавленные тройным гнетом (богословскими авторитетами, освященными его отцом Султаном Улемов, книжной ученостью, подтвержденной дипломами дамасских и халебских шейхов, суфийским самосовершенствованием, пройденным под началом Сеида Бурханаддина), оказались настолько огромными, что обрели взрывчатую мощь, скопившись, как пар под давлением в кипящем на огне котле. Шемседдин первым увидел эти силы и приоткрыл крышку, открыв Джалалиддину новый мир. И тогда на весь мир в сердце Руми зазвучал голос бубна – тот голос, который он сам жаждал услышать долгие годы.
Жизнь изменилась. Прежде Джалалиддин поучал мюридов, давал фетвы правоверным, читал проповеди, наставлял учеников, дискутировал с улемами. Теперь же молитвы и пропо-веди сменились стихами и музыкой, стенания и плач – песня-ми и плясками, поучения, фетвы и диспуты были заброшены. Прежде он был постоянно скорбен, голова понуро опущена. Отныне он стал весел с лица, радостно упоен, и беспредельно счастлив. Книг в руки почти не брал, их сменили най и ребаб.

Пляска под звуки ная и чтение стихов Руми
Превратив Джалалиддина в своего единомышленника, Шемседдин направил его по иному пути – свободного раскрытия своего внутреннего мира, которое одновременно стало выражением сути самого Шемседдина.
Этим путем было «сэмá» – музыка и пляска приводили Джалалиддина в то вдохновенное состояние, в котором сами собой рождались самозабвенные стихи. Шемседдин Тебризи сделал его поэтом.

Пляска под бубен и флейту (старинная миниатюра)
Таково вкратце то новое знание, которое открыл Джалалиддину Руми Шемседдин Тебризи, и которое стоило тому жизни. Организатором его убийства стал исполненный гордыни и зависти второй сын Руми – Аляэддин. После того как Джалалиддин узнал всю правду обэтом, он больше никогда не видел в лицо своего второго сына, бесследно сгинуло и его потомство.
ДОБРО И ЗЛО В ПОНИМАНИИ ДЖАЛАЛИДДИНА РУМИ
Горе Руми в связи с утратой друга и наставника еще больше обострило восприятие поэтом окружающего мира. Столкнувшись с насилием и несправедливостью, оставшись один на один со смертью и страданием, Руми пытался найти ответ на вопрос: как же Бог, будучи милосердным и справедливым, допускает существование в мире зла? Ведь Бог всемогущ!
Пытаясь объяснить кажущуюся несовместимость атрибутов Бога, Руми предлагает признать, что промысел Божий не поддается разумному объяснению, и потому следует признать веру как любовь к Богу-Истине. Согласно Руми, вера, тождественная любви, не требует каких-либо обоснований. Она, как и любовь, всепоглощающа и беспредельна. Как и другие поэты-суфии, Руми критически относится к умствованию. Он даже сравнивает любовь к Богу и путь Его постижения с опьянением, ведущим к безумству, экстазу. Согласно Руми, безрассудство и ошеломление должны вести к отрезвлению, освобождающему от рассудочности общепринятого мнения.
Безграничная вера, согласно представлениям мистиков, освобождает их от необходимости следовать чьей-либо воле, кроме Божьей, делает человека свободным от произвола светских властителей, от необходимости соблюдать предписания религиозных авторитетов. Таким образом, свобода воли рассматривается как милость Божья. Всевышний добровольно ограничивает свое могущество, чтобы «испытать» человека.
На вопрос, зачем же Творцу понадобилось испытывать человека, если он мог сделать его исключительно добродетельным, Руми устами одного из своих персонажей отвечает, что целомудрие ничего не стоит, если отсутствует искушение пороком. Но главное даже не в том, чтобы испытать человека. По мнению Руми, добро и зло нужны для того, чтобы стала очевидной всеохватность абсолютного бытия-Бога.
Добро и зло выступают у Руми как объективные проявления парных божественных атрибутов: милосердия и мщения. Они есть результат желания Всевышнего проявить себя, а, следовательно, существуют как данность. Это означало бы, однако, что присутствие добра и зла в мире признается естественным, и что преодолевать зло не имеет смысла. Тогда не осталось бы места ни для чего, кроме полного подчинения предначертанному Богом уделу, кроме примирения с существующим злом. Тогда пришлось бы признать нецелесообразность высоких помыслов и усилий, направленных на совершенствование. Поэтому Руми разъясняет, что, хотя добро и зло объективны, человек, тем не менее, может сделать между ними выбор.
Руми не скрывал, что существование свободы воли остается для него неразгаданной тайной. Он предвидел, полемика между приверженцами идеи абсолютного божественного предопределения и их оппонентами будет продолжаться до Судного дня. Поскольку рационально этот спор разрешить невозможно, то, по мнению Руми, необходимо перенести его из области разума в сферу, где «царит сердце». Полностью поглощенный любовью ко Всевышнему, человек становится частью «океана» – абсолютной реальности. И тогда «всякое действие, которое совершается им, не его действие, а (океанской) воды». Всеобъемлющая любовь к Богу настолько меняет человека, что для него теряет смысл вопрос о свободе воли. Он ощущает слитность с абсолютным бытием, и тогда, естественно, возникает чувство: «Я – это Бог». При этом выражение «Я – Бог» свидетельствует о великом смирении. Человек, который говорит: «Я – слуга Божий», тем самым утверждает, что существует его собственное «Я» и Бог. Тот же, кто заявляет «Я – Бог», тем самым говорит: «Меня нет. Он (Бог) есть все. Ничто не существует, кроме Бога. Я – чистое небытие, я есть Ничто».
После смерти Шемседдина Тебризи Джалалиддин Руми начал соединять преподавание мусульманской учености с суфийской практикой прямо в коранической школе, чего до него никогда не было. В своих воззрениях он стремился занимать промежуточную позицию между мистикой и мусульманским богословием.
Как известно, суфизм с самого своего возникновения был не отделим от поэзии. Вначале на суфийских меджлисах просто пели народные любовные песни. Затем специально для меджлисов суфии сами писали стихи – рубаи и газели, в которых иносказательно старались передать психические состояния «Взыскующего Истины», что должно было вызывать у слушателей соответственный эмоциональный отклик. Вскоре ораторская и проповедническая деятельность потребовала от участников меджлисов более развернутого изложения той или иной стороны суфийской доктрины, в связи с чем в свое время родились аллегорические назидательные поэмы таких персидских поэтов, как Ансари, Санайи и Аттар. В конце концов, суфийская поэзия выработала свои собственные традиционные образы и метафоры.
На вершине этой традиции стоял Джалалиддин Руми. Любимые образы его поэзии – зеркало, отражение и тень. Объективную реальность он полагал тенью, отражением иного (идеального) мира, который считал единственно истинным. То есть принимал действительность за отражение, а отражение за действительность. И если, не забывая об идеализме Руми, продолжить его излюбленную метафору, то можно сказать, что его поэзия – незапятнанное зеркало, в которое на протяжении восьми веков глядится человечество. Ибо в этом зеркале со всей глубиной и ясностью отражены душевный мир человека, законы его движения, а через него и закономерности развития мира действительности.
Руми боготворил мир высший и терзался несправедливостью мира, в котором жил, искренне переживая за людей, сердца которых затянуты пеленой алчности, зависти, корыстолюбия и прочих пороков:
«Сколько вокруг людей! Но зеркала их душ занавешены себялюбием. А разве они себя любят? Нет, их любовь – питье, еда, вещи, деньги, власть... Их души – амбар, где без всякой связи, в беспорядке свалены предметы, среди которых они сами такая же бессмысленная неодушевленная вещь...
Для бездуховного человека Вселенная тот же амбар, переполненный до краев бессмысленными, бессвязными вещами. И только дух человека может превратить Вселенную в собственный дом...»
Руми мечтал, чтобы каждый человек смог «увидеть всеоб-щий единый смысл в каждой травинке, каждом небесном све-тиле, в мысли, шевельнувшейся в голове, в ребенке, шевель-нувшемся во чреве, обнаружить всеобщую связь и всем своим существом ощущать ее».
В своих стихах он обращался ко всему миру, ко всем людям без различия рас, религий, национальностей и сословий:
Дай нам вина единства вкусить, поровну всех напои,
чтобы вместе мы все собрались,
И различья, что видимость только одна,
разом смогли устранить.
Все мы – ветви единого древа,
Все мы – воины единого войска.
И всецело растворялся в этом мире:
Я слышал благодать в собрании людском,
И потому душой – слуга народа.
Он действительно стал поэтом народа, поэтом всего человечества, которое в этом году празднует его юбилей, 800-летие великого Моулана, оставившего в назидание потомкам громадное литературное наследие в стихах и прозе. Только в Тегеране издан его диван стихов в восьми томах!
Произведения Руми отличает высокий эмоциональный настрой, часто окутанный, в том числе, идеями мистицизма, и потому сегодня на Востоке он признается крупнейшим мистиком всех времен. Здесь, к примеру, считают, что всякий, повторяющий по утрам и вечерам строки из его книги «Месневи» , избежит горения в адском пламени, ибо «Месневи» – это «Коран на персидском языке».
Уходя из этого мира, Руми, следуя принятому им принципу отражения, воспринимал свою смерть как рождение:
О, все, кто рожден!
Когда смерть постучит в вашу дверь, не пугайтесь!
Смерть – второе рожденье для тех, кто влюблен .
Так рождайтесь, рождайтесь!
И знал, что будет жить «в сердцах просвещенных людей», доколе будет живо само человечество:
Я не из тех султанов, что с трона прыгают в гроб.
На челе моем – печать бессмертия.
А потому:
То не разлуки, а свиданья день.
Светило закатилось, но взойдет.
Зерно упало в землю – прорастет!
(В книге Джалалиддина Руми «Месневи» (двустишия) рассказаны его собственные познания и прозрения, изложен весь его путь к Истине и все степени ее постижения, все, что он понял, все, чем стал, и что, быть может, останется, после него на земле. «Месневи» – не только свод знаний времени Руми, но и бесценная сокровищница фольклора. Многие сюжеты и мотивы этой книги почерпнуты из бесед Шемседдина Тебризи, записанных «писарями тайн». «Месневи» – это книга, подобной которой не знала и не знает мировая литература хотя бы потому, что она была не написана поэтом, а сказана им. Все стихи с его уст записывал его ученик Хюсамеддин, ни на шаг не отходивший от великого мастера слова.
Имеется в виду, кто верует. Понимание этих слов смотрите в тексте статьи.)
В последний путь его провожали сотни людей, и каждый хотел подставить свое плечо под гроб, накрытый лиловым плащом, по которому горожане привыкли узнавать Джалалиддина. Все пришли попрощаться с поэтом, каждый на свой лад: хафизы читали Коран, раввины – Библию, православные священники пели псалмы, ашики играли на ребабе, стучали в бубны и плясали, возглашая в экстазе стихи о любви.
Но, видно, мир земной не очень-то хотел отпускать поэта в мир небесный. За двадцать минут проходил Руми при жизни путь, который теперь совершал на плечах людей. Однако про-цессия, двинувшаяся из дома Руми ранним утром, достигла мечети лишь под вечер. Четырежды на этом пути ломался гроб. Четырежды тело, завернутое в белый саван, падало на землю, и друзья поднимали его на руки. Четырежды стражники избивали людей, ибо натиск толпы не давал возможности процессии двигаться. И четырежды ремесленных дел мастера – верная опора поэта – чинили его последнее обиталище. Все смешалось: молитвы, рыдания, стихи, музыка…
Но даже столь сложным образом последний путь все же был пройден, а вместе с ним и вся жизнь еще одного человека, по окончании которой на планете Земля вырос еще один холмик свежей земли...
Все преходяще. Давно уже нет на свете горделивых и высокомерных султанов и визирей. Кто помнит их указы и повеления? Сколько людей знают по именам падишахов былой сельджукской державы? Считанные единицы, занимающиеся исследованием истории.
Да и суфизм, как учение-протест против богословской догматики, с каждым веком все более уходил в прошлое, постепенно обретая черты традиционализма и догматизма. Созданный Руми суфийский орден «Моулавийа» превратился из братства веселого «базарного люда» в собрание элитарных кругов общества, танцевальный ритуал канонизировался и стал лишь театральным представлением. Все кануло в Лету.
И только новые поколения людей все идут и идут к Джала-лиддину – человеку, познавшему себя и забывшему о себе, но не забытому другими. Почему?..
Не все преходяще!
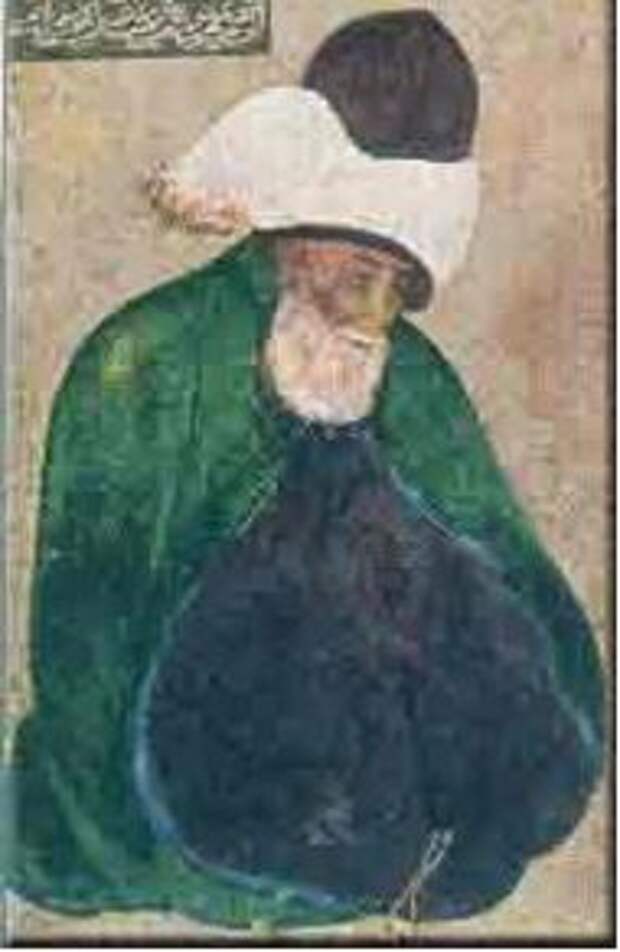
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ
ДЖАЛАЛИДДИНА РУМИ
Ночью перед отъездом из Балха, когда все улеглись спать, 12-летний Джалалиддин тихо вышел во двор. Звезды роились и мерцали на темно-синем бархате неба. Он поднял голову. Нашел среди звездного океана свою едва заметную светящуюся точку – недавно с одним из мюридов отца он сам составил свой гороскоп. И, глядя на нее, попытался угадать, что ждет его через неделю, через год, через десять лет на бесконечном, как вечность, пути .
Да, в то далекое время в Персии все просвещенные люди непременно владели искусством астрологии. Любопытно было бы взглянуть на гороскоп Руми, составленный им самим, как и почитать его толкование. Однако эти данные не дошли до наших времен. И потому попробуем сделать его гороскоп сами, зная дату и ректифицировав время рождения.
Гороскоп Джалалиддина Руми
г. Балх, северо-восток Персии (совр. Афганистан)
П/Гринвич: 0:00 29.09.1207 ст. ст. 18:16
36°30'00"с.ш., 66°30'00"в.д. Суббота, 19 с.д., 7 л.д.

Время рождения Джалалиддина Руми не известно. Время взято на основании пред-положения нахождения Асцендента в знаке Рака (см. комментарии по тексту).
Джалалиддин Руми родился 29 сентября 1207 года старого стиля от Рождества Христова.
Солнце в Весах, проявившееся в этом человеке на самом высоком уровне, объясняет его неразрывную связь с обществом, жизнь среди людей и вынужденную роль арбитра в спорах между ними, а также его природную уравновешенность, стремление к справедливости и объективности в оценках. При этом Меркурий в Весах наделил его умением отстаивать свою точку зрения, сравнительным анализом всех мнений, а в поэтическом творчестве – эстетикой речи, изысканностью и разнообразием используемых образов.
Управитель Весов, Хирон, находится в Близнецах – знаке словесного творчества. Применительно к литературной деятельности Хирон в Близнецах указывает на прекрасного рассказчика, прибегающего к сравнению разнополюсных ситуаций, особенно касающихся вопросов добра и зла, что заметно прослеживается в стихах-притчах Руми. Здесь же, в Близнецах, в соединении с Хироном стоит Сатурн, что позволило Руми легко подбирать ключ к любому общению, наделило его природной наблюдательностью, умением быстро оперировать фактами, мастерски вести любой спор. Соединение Хирона с Сатурном указывает на роль третейского судьи, умение разрешать двусмысленные ситуации, отстаивать свою позицию, не смотря ни на какие противодействия, а также подтверждает интерес к философии, частый пересмотр собственных жизненных целей.
Рецепция Хирона и Меркурия, управителей знаков Весов и Близнецов, двух двойственных знаков, связанных с проблемой выбора, в философском понимании – выбора между добром и злом, объясняет как столь сильный интерес Руми к этому извечному вопросу, так и желание в нем досконально разобраться. И в этом столь бескомпромиссном вопросе в рассуждениях Руми прослеживается некая двойственность.
Нет, поэт никогда не призывает к выбору в сторону зла, напротив, всегда защищает добро и приветствует добрые деяния. Однако порой в стихах Руми о единстве мира прослеживаются такие понятия как «все равны», «все равно»: «бываю правдивым, бываю лжецом – все равны», «слыву порой благородным, порой подлецом – все равны», «див и ангел – родня мне; они одним осияны нездешним венцом – все равны», «ты безбожник иль пламя твой бог – все равно», «вера и безверье – басни, болтовня – какой в них прок» и пр.
Понятно, что все в этом мире преходяще, и всех, независимо от их деяний, в банальном смысле ожидает один и тот же конец – маленький холмик земли, перед которым «все равны». Но ведь перед Господом Богом не все равны! Между правдой и ложью – непреодолимая пропасть! И добро никогда не примирится со злом, как и не нуждается в его существовании, тем более для сравнения, оправдания и доказательства, что оно – добро!
Читая Руми, порой сложно разобраться, что он имеет в виду, оправдывает или нет существование зла? Бесспорно одно: поэт всегда стоит на позиции свободы выбора человека между этими двумя категориями, приветствуя выбор в сторону добра. И в этом бесспорен еще один факт – влияние религии зороастризма как на учение суфиев, так и на все религиозные школы и течения Древней Персии.
Венера с Марсом в Скорпионе – возможно, именно такое стояние в гороскопе Руми именно этих планет не оторвало его от реальной, земной жизни, наоборот, всегда заряжало энергией любви, страсти и желания. Как известно, Руми превозносил не только любовь к Богу, но и любовь к женщине, боготворил женщину, позволял женщинам участвовать в своих собраниях и диспутах наравне с мужчинами. И даже любовь к Богу, в силу положения планеты Любви в самом страстном знаке Зодиака, проявлялась в Руми как духовный экстаз: «Страстное стремление к Возлюбленному (Богу) заслоняло для меня науки и декламацию Корана, и я опять становился одержим и невменяем». Венерой в Скорпионе объясняется и личный, внутренний магнетизм Руми, притягивавший к нему множество людей. Марсом же в Скорпионе объясняется страсть к духовным экспериментам над собой, своей сущностью, над душой и телом – вспомним хотя бы тарикат, путь суфия, со всеми его проявлениями: очищением помойных ям, унижением сбором подаяний, голоданием, искусом продолжительного уединения и пр.
И, наконец, заслуживает внимания экзальтированный в Раке Юпитер – изначальный авторитет, организаторские способности, особенно хорошо проявляющиеся при поддержке народа, а также несение традиций, занятие религиозной деятельностью, создание духовных школ. Управитель Юпитера, Луна, в Козероге – профессионализм, высокие цели. Все это, как нельзя лучше, характеризует Руми, которого, в конечном итоге, окрестили Моулана, что означает «Наш Господин».
В связи с этим стоит сказать и о созвездии Пастыря (Волопаса), проявленного в гороскопе Руми через Верхний Зодиак, с его главенствующей звездой Арктур на Солнце, дающей человеку колоссальные силы и энергию. Пастырь – это руководитель, воспитатель, учитель, концентрирующий на себе внимание. Другое название – Маяк, на который ориентируются. Созвездие образовано Меркурием в Весах и Белой Луной в Деве – это несение Благого Слова, прекрасный показатель для занятия литературной деятельностью. Об умении замыкать на себя коллективные энергии, о водительстве «человеческих стад» и магической власти над людьми говорит также Плутон, экзальтированный во Льве. На духовное лидерство дополнительно указывает Нептун в Овне. На лицо гороскоп очень сильного человека, который и реализовал себя должным образом, правда, не без помощи Учителей, которых ему постоянно дарила судьба.
Кармический путь по Восходящему узлу в Водолее – абсолютная внутренняя свобода и независимость от чего бы то ни было, по Нисходящему узлу во Льве – разотождествление с собственным «Я», как и отказ от самости, тщеславия и эгоцентризма. Именно от этих «львиных» проявлений Сеид-Тайновидец первым делом и решил избавить Джалалиддина, отправив его чистить общественные нужники и собирать подаяние для дервишской обители. Пройдя весь путь «тариката», обновленное сознание Руми не было зациклено на себе, считая: «Нет имени моим чертам, вне места и пространства я, ведь я – душа любой души, нет у меня души своей». А также: «Я ни за что свободу в рабство не продам!» Восходящий узел в 30-ом (королевском!) градусе Водолея, символом которого является «король в короне на троне». Моулана действительно стал «королем», но не взошедшим, а возведенным на трон любовью и признанием народа.
По Черной Луне в Близнецах – зависть и интриги со стороны менее успешного окружения. По Белой Луне в Деве – ученость, знания, а также долг, терпение и смирение; как высшее проявление – познание себя и умение управлять самыми скрытыми резервами своего организма.
Асцендент. О его положении можно только предполагать, поскольку время рождения Руми не известно. Вероятнее всего, в водном знаке – личностная реализация через духовное совершенствование и мистические поиски. Но не в Рыбах – в нем не было «рыбьей» мягкости и сентиментальности. И не в Скорпионе – нет «скорпионьего» трагизма, скепсиса и сарказма. Получается знак Рака, с Юпитером в первом доме гороскопа – впечатлительность, внушаемость, интуиция, но и духовное лидерство, религиозность, авторитет, притягательное воздействие на других. Рецепция управителей первого и шестого домов (Луны и Юпитера) – полное подчинение себя делу, чувству долга, аскетизм, терпение и смирение.
Другие показатели гороскопа при Асценденте в Раке.
Сильный четвертый дом – важность дома, рода, традиций. Белая Луна в четвертом доме, на IC – светлая карма предков, подпитка от кармы своего народа, светлый путь и известность на Родине. В четвертом доме управитель второго дома – изначально крепкая, прочная и обеспеченная семья (род Руми действительно был не из бедных и имел свою давнюю историю). Управитель IC (Прозерпина) в пятом доме – передача традиций рода детям (Руми, став проповедником, унаследовал дело своего отца). Рецепция управителей четвертого и двенадцатого домов (Хирон и Меркурий) – увлечение психоанализом, исследованием тайн человеческой души.
Управитель МС, Нептун, в десятом доме – раннее осознание цели и самостоятельное ее достижение (Руми стал проповедником в 24 года). Нептун управитель и девятого дома, который, находясь в десятом доме, указывает на духовное возвышение, известность за границей. Второй немаловажный управитель десятого дома (Марс) в пятом доме – во второй половине жизни раскрытие творческих способностей (у Руми это реализовалось через поэзию), а также передача своего дела детям (старший сын Руми, Велед, возглавил основанное Руми новое суфийское общество). Здесь же, в пятом доме, управитель третьего дома (Прозерпина) – интересные знакомства, способствующие творческой реализации (к примеру, встреча с Шамседдином Тебризи), раскрытие творческих способностей через литературную деятельность.
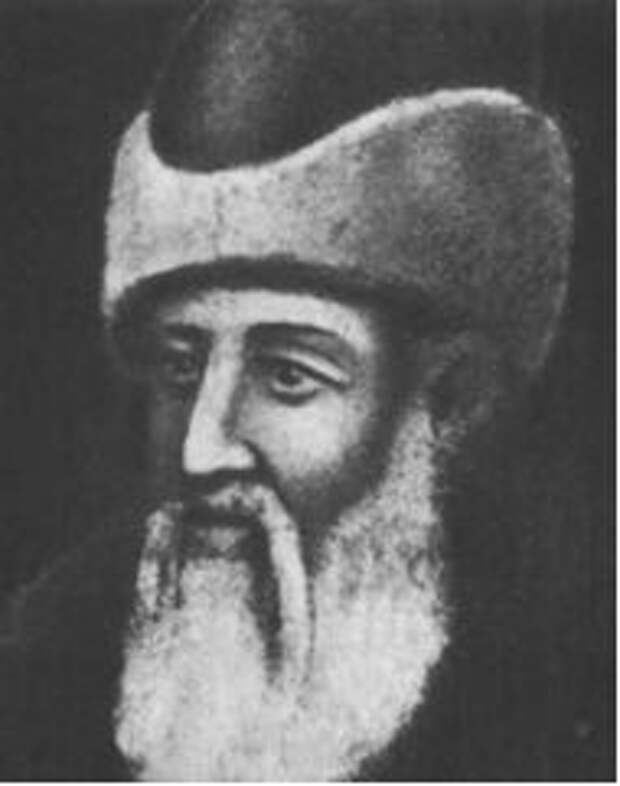
Градус Асцендента. Предположительно 13 градус Рака, градус Ибиса, один из самых мистических и даже пророческих градусов, под которым рождаются ученые, поэты, отшельники, странные и загадочные личности, часто жертвы собственных исследований и экспериментов. Градус магии, тайны и таинственных явлений. Руми был и ученым, и поэтом, и отшельником, увлекался мистикой, психоанализом, исследованием тайн собственной души, экспериментируя над собой.
Внешне люди этого градуса отличаются худым телосложением, имеют вытянутое лицо, удлиненный нос, длинную шею, выступающий кадык (обратите внимание на представленные в статье фотографии).
В другом варианте символ градуса – фокусник, заклинатель змей, играющий на флейте. Помните: Джалалиддин ввел обычай во время меджлисов слушать игру на флейте («нае»), музыка уносила его в другое состояние, в котором ему открывался иной мир, полный ритма, танца и поэзии. А люди, как завороженные, смотрели на кружащегося дервиша, внимая каждому его слову.
При этом на Асцендент попадает звезда Поллукс, дающая человеку бесстрашному и бескорыстному защиту в любом праведном деле. А ведь у Руми было достаточно явных и тайных противников, желавших, если не его смерти, то хотя бы отстранения его от дел. Ан нет, ничего не вышло. Поллукс, бессмертный брат-близнец, стоя на Асценденте, вероятно, является и показателем бессмертия человека, как бессмертия его творений. Уж, 800 лет прошло, а Моулана все также читаем и популярен в Персии, да и в мире хорошо известен.
И, наконец, о календарных ритмах. Джалалиддин Руми родился в год Паука. Да, он не только юбиляр, но и представитель года Паука, которому посвящен календарь. Как известно, Паук – символ Солнца, символ кольцеобразного мироздания, символ творческого начала. Паук связан со знанием, побеждающим незнание, а также со временем. Паук – неформальный лидер, объединяющий вокруг себя других людей. Как видим, все эти качества в полной мере реализовались в Джалалиддине Руми. В чем-то подобен паутине, как символу мироздания, и танец «вертящихся дервишей», которые одновременно кружатся вокруг своей оси и двигаются по кругу вокруг своего шейха, олицетворяя тем самым картину самого мироздания, в котором планеты вращаются вокруг своей оси и движутся вокруг Солнца.
Любопытен и тот факт ( Случилось это на обращении Лунных узлов (в 37 лет), после чего началось превращение ученика Руми (Кету в III доме) в учителя Моулану (Раху в IX доме).), что человеком, перевернувшим судьбу Руми , по-новому зажегшим в его душе огонь жизни, творческого вдохновения и оптимизма, и тем самым подарившим миру великого поэта, стал один бродячий мистик, чье имя Шемседдин переводится как «Религия Солнца» (с фарси «шемс» – Солнце, «дин» – религия). Кем же был этот мистик? И что означает его имя? Не был ли он странствующим атхарваном той самой «солнечной религии», которая в те времена была вынуждена скрывать свое настоящее имя?..
ДЖАЛАЛИДДИН РУМИ
ПРИТЧИ
перевод В. Державина
СПОР МУСУЛЬМАНИНА С ОГНЕПОКЛОННИКОМ
Огнепоклоннику сказал имам:
«Почтенный, вам пора принять ислам!»
А тот: «Приму, когда захочет бог,
Чтоб истину уразуметь я мог».
«Святой аллах, – имам прервал его, –
Желает избавленья твоего;
Но завладел душой твоей шайтан:
Ты духом тьмы и злобы обуян».
А тот ему: «По слабости моей,
Я следую за теми, кто сильней.
С сильнейшим я сражаться не берусь,
Без спора победителю сдаюсь.
Когда б аллах спасти меня хотел,
Что ж он душой моей не завладел?»
СПОР ГРАММАТИКА С КОРМЧИМ
Однажды на корабль грамматик сел ученый,
И кормчего спросил сей муж самовлюбленный:
«Читал ты синтаксис?» «Нет», – кормчий отвечал.
«Полжизни жил ты зря!» – ученый муж сказал.
Обижен тяжело был кормчий тот достойный,
Но только промолчал, и вид хранил спокойный.
Тут ветер налетел, как горы, волны взрыл,
И кормчий бледного грамматика спросил:
«Учился плавать ты?» Тот в трепете великом
Сказал: «Нет, о, мудрец совета, добрый ликом!»
«Увы, ученый муж! – промолвил мореход, –
Ты зря потратил жизнь: корабль ко дну идет!
ДЖАЛАЛИДДИН РУМИ
Я милостыни у людей не брал,
То, что велело сердце, я сказал.
Слово – одежда.
Смысл – скрывающаяся под ней тайна.
В зеркале, как известно, все наоборот.
Но без него мы бы никогда не увидели самих себя!
Возведи крепость из добрых дел,
И не будет на свете ее прочнее!
Ты можешь забыть все на свете, кроме одного:
зачем ты явился на свет.
Не продавай себя задешево, ибо цена тебе велика!
Ты стоишь обоих миров, небесного и земного.
Но что поделать, коль сам ты не знаешь себе цены?
Для тех, кто к совершенству путь прошел,
Неведение знанием бывает.
А знанье, что невежда приобрел,
В невежестве его изобличает.
Свежесть. Ветерок повеял благовонный.
Из чьей обители исходит он, сознай.
Проснись! Взгляни, как мир бежит неугомонный,
Пойми, что караван идет. Не отставай!
Зашей себе глаза. Пусть сердце станет глазом.
И этим глазом мир увидишь ты иной.
От самомнения решительным отказом
Ты мненью своему укажешь путь прямой.
В последний час, когда с души спадает тело,
Как платье старое, сорвет она его.
И, сродной с ним земле вернув его всецело,
Наденет новое из света своего.
Любовь – астролябия Истины.
У Истины прекрасен лик. Будь верен только ей…
Придется ль мне до той поры дожить,
Когда без притч смогу я говорить?
Сорву ль непонимания печать,
Чтоб Истину открыто возглашать?
Если жизнь пронеслась, ты получишь другую,
Не о бренности, нет! – о бессмертье толкую.
Ты в Любовь погрузись, и познаешь тогда
В каждой капле целебную влагу морскую!
Не видя вас нигде, глаза полны слезами.
Воспоминая вас, душа полна тоской.
Вернется ль что-нибудь из прожитого нами?
Увы! Прошедшее придет ли в раз другой?
Ни ад, ни рай, ни этот мир, ни мир нездешний – не мои,
И мы с Адамом не в родстве – я не знавал эдемских дней.
Нет имени моим чертам, вне места и пространства я,
Ведь я – душа любой души, нет у меня души своей.
Некто постучал в дверь «Возлюбленного» [Абсолюта], и голос оттуда спросил:
– Кто там?
Подошедший ответил:
– Это Я.
Голос вновь:
– Этот дом не может вместить Меня и Тебя.
И дверь осталась закрытой.
«Любящий» [Ищущий] удалился в пустыню и провел время в одиночестве, постясь и молясь. Прошел год, и он снова возвратился и постучал в дверь.
– Кто там? – сказал голос.
– Это Ты.
И дверь открылась…
Парадокс 2007 стр 365 - 403
Статья подготовлена Малаховой Н.М.
К 800-летию со дня рождения
29.09.1207 ст. ст. – 17.12.1273 ст. ст.
Свежие комментарии